Николай Лавров
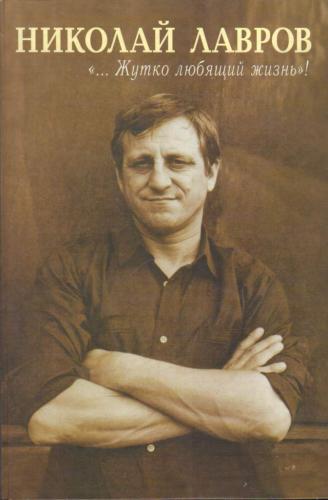
нальет вина:
«За Новый год, за старый год,
За все – до дна!»
И с полстакана в голове
такая муть,
такая радость от любви –
не продохнуть.
А заполночные часы
укажут: пять;
и трудно будет поутру
с похмелья встать.
Идти по хмурой Моховой
и знать о том,
что где-то за моей спиной
еще есть дом.
5 октября 2000.
На 20-тилетие «Дома» должны были присвоить звание «Народного». Но весной и так было много юбилеев, перенесли на осень, на открытие сезона.
А 12 августа утром Коля умер.
«Дом» – главный его спектакль. «Дом» сыграли с вкраплениями видеозаписей. Звание так и не присвоили.
Когда звонили в Москву, чтобы «ТВ» сообщило о смерти Коли, они ответили: «Мы объявляем только о смерти народных артистов…» и оговорились нелепо: вот будет народным, объявим.
Но даже в записях было понятно – достойно быть народом, у которого есть такой артист.
Коля, я до сих пор не понимаю, что ты умер.
12 февраля 2001г.
Ездил к Коле. Глаша в саду сделала большую ромашку, ветер качает ее над Колиной могилой.
Потом у Наташи поминали Колю.
- Мы, Леха, сыграем наш спектакль непременно!
Когда, Коленька?
5 апреля 2001г.
Сижу на кухне, читаю «Татуированную розу» Уильямса – вспоминаю Колю в этой роли, как поджидал его после спектаклей, как стремился в детстве найти поводы сближения, как первый раз остался ночевать у него в доме после дня рождения Саши Капустиной, стоящие часы на кухне.
Звоню Феде, его «Алло, да!» – такое отцовское, такое Колино.
В день рождения все соберутся, и мне снилось, как все будут, а Коли нет. Ждут со спектакля, вот-вот будет. Не будет уже никогда.
10 октября 1998г.
ТОСКА ПО РОДИНЕ (рассаз Николая Григорьевича)
Гастроли в Париже. Звучит красиво, но если это уже черт знает, какие по счету гастроли – от заграниц мутит уже, так что счастья мало. Никакие праздники уже не праздники, труппа в свободное от спектаклей и прогонов время разбредается по городу, лишь бы своих не видеть – приевшихся и так же измученных скитальчеством. Но случаются дни рождения, именины, юбилеи – надо как-то поздравлять собратьев по сцене. Вот подходит ко мне Бехтерев и говорит, что, мол, у С. день рождения – надо поздравить, сочинить стишок. Знал, гад, что стишки – это мое, так сказать, хобби. Ну, я сел и задумался, через час приходит Бехтерев:
- Написал?
- Написал три варианта, выбирай любой.
- Валяй!
- Что – вслух?
- Поэзию воспринимаю только на слух, все-таки поэзия!
- Ну ладно, - говорю, - слушай:
Конечно С. артист хороший,
Идет на сцену он без страха,
Он вышел голосом и рожей,
А, впрочем, да пошел он на х..!
- Ну как, - спрашиваю.
- Это шутка?
- Почему же шутка? От души.
- Надо бы помягче, позначительней… Давай следующее.
- Читаю:
Конечно, С. артист хороший,
Известен он на всю Европу,
Он вышел голосом и рожей,
А, впрочем, да пошел он в ж..!
- Безобразие! Ты издеваешься?
- Да почему? Мы же все свои, сроднившиеся, можно и поинтимничать.
- Да это грубо, безобразно грубо! Пивные мужицкие шутки. Поженственнее надо писать, понежнее, бережнее! Что там у тебя на третье?
- Пожалуйста, как раз поженственнее:
Конечно, С. артист хороший,
Весь театр держит за узду
Он вышел голосом и рожей,
А, впрочем, шел бы он в п…!
Бехтерев обиделся, ушел. А я сидел и думал: сейчас бы с псом моим, Арсом, прогуляться, или кофейку выпить на углу Пестеля и Литейного. А тут Париж.
Париж же ты, Париж…
7-8 апреля 2001г.
Встреча? Коля, прощаясь с Колей Павловым, обнял его лежащего, сказал: «До встречи». Как это будет? Как жалко, что завтра я буду не у Коли. Все соберутся, все помянут – надо быть с ними.
Вербное. Пошел в храм – толпа. Хорошо, светло, просто. Мне собрали букет вербы, освятил, поставил свечку за Колю. Свечку за Колю, о, Господи! Пусть ему будет хорошо.
Знать бы, что хорошо.
12 августа 2001г.
С Колей большая часть жизни связана - не думать о нем - выбросить эту часть жизни. Потому, думать о нем, будто он есть. А он есть. Я-то жив.
31 марта 2004г.
Звоночки-позвоночки, ночные бесприютные пули, когда-то кем-то пущенные в темноту. Звонит мама, взволнованная:
- Леша, только что говорила с Романом Федотовым – он взбешен: хотел сделать о Коле передачу, снять завтрашний вечер памяти в МДТ – а те поставили условие: три тысячи долларов – какой ужас. Негодяи!
Я остолбенел, хотя, конечно, не поверил. Звоню Роману, он все подтверждает. Я еду в Питер на этот вечер, и теперь знаю, как именно должен вложиться в воспоминание о Коле. Друзья делают книгу, и кто-то что-то написал в нее, что-то вспомнил, а я не могу. Не объективируются фрагменты жизни. Кроме рассказов о том, как мне было хорошо с ним. Снять передачу! И это будет делать Роман – папин ученик. Какое хорошее решение. Но теперь уже, как выяснилось, не будет. Нет – съемка должна состояться, хотя бы потому что вопреки. И застонала-загомонила телефонная пулевая ночь. Автоответчик Сережи Власова хрюкнул: «второе апреля, шутки неуместны», после чего Сережа взял трубку. Когда я сказал про три тысячи: «Этого не может быть! Я выясню, подожди!» Оказалось, что канал потребовал эксклюзивных прав на снятый материал, что говорили не с Додиным и не с директором даже, а с пресс-атташе, которая руководствовалась формальными указаниями: хочет кто эксклюзив о театре – платите. Просто в театр пришла бумага, переговоры не велись, даже не созванивались. А потом канал сказал режиссеру, что с них за их благородные намерения хотят денег. А режиссер, недолго думая, проклял театр.
В два часа ночи разбуженный Алеша Богданов обещал быть с камерой у театра в 18.30.
Петр Духовской только что сел в поезд – к любимой в Питер на выходные – тоже будет снимать. Роман Хрущ привезет денег мне на авиабилет.
Только Андрей Вакорин не брал трубку, он ехал по шоссе из Финляндии, но к съемке успел.
Он и провожал через сутки с Ладожского вокзала на Финский поезд в Москву. Мы все сняли. Три друга-оператора сложили кассеты в коробочку, я отвез их в монтажную Роману Федотову. Какой хороший, большой и настоящий день. Коля, я уверен, поступил бы также.
12 декабря 2004г.
Зиновий Карагоцкий, Зяма, на похоронах Коли Лаврова (через неделю после похорон Миши Богина), а был четверг, подошел к Тане Комаровой поздороваться, взял под локоть, посмотрел в глаза и обронил проникновенно: «Ну что, Танечка, - по четвергам на Волковском…» А потом, уже сам больной и почти обездвиженный, умирая, диктовал воспоминания о Коле, своем ученике, для книжки, которую собирают Саша Капустина с Машей Юнгмейстер.
Я от тебя ушел, ушел в солдаты…
Ник. Лавров
Я брошен крошкою из крошек
на воробьиный тротуар,
и вот один уже, взъерошен,
несется полчищем татар,
и в разума незапном свете,
для этой мысли жизнь мала,
я вдруг увидел, что у смерти,
столь воробьиные крыла –
такою жалкой, желторотой
в своей заботе моровой
она предстала в ту Субботу,
чирикая над головой.
~
Апрель прошел, как вылился
водою по трубе,
и я купил два ириса,
и я пошел к тебе.
Шумит весна осколками,
буксиром на реке,
а я стою на Волковом –
два ириса в руке.
И прель земная, горькая,
и грай, вороний грай,
ты слышишь это?!
Только
в ответ звенит трамвай.
Как странно, странно, странно,
что, весело звеня,
он повернет с Расстанной
и подождет меня.
~
Просто к дате добавилась дата
и время года – новое ощущение:
к апрелю август приник, когда ты
ушел в солдаты… прошу прощения
за цитату. А тою ночью,
с сияньем северным на рассвете,
октавой выше ты спел
Бессрочно!
Над Сестрорецком гуляет ветер,
над Моховой, над Расстанной, дальше
повсюду. И на кануне свечи
сжигает август легко, без фальши.
Гуляет ветер. Прости. До встречи.
~
Я восемнадцать лет назад,
очнувшись поутру,
вдруг восемнадцать лет назад
твой номер наберу,
пусть и представить не могу,
что трубку ты возьмёшь:
- Алло? - Привет! И я бегу,
не верится, но все ж,
а вдруг я задержу тебя
пустячной болтовней
и восемнадцать лет ещё
не разлучусь с тобой?
Минуя лифт, наверх, бегом -
ступени, этажи –
и эти восемнадцать лет
я буду жить, как жил –
то есть, я не позвоню тогда,
а значит – никогда,
с небес срывается звезда,
и это навсегда,
Потеря прошивает дни,
не надо, погоди!
А лифт уже спустился и
уходишь ты один.
